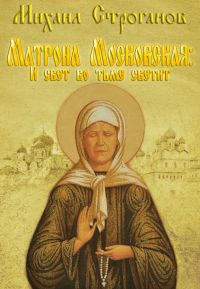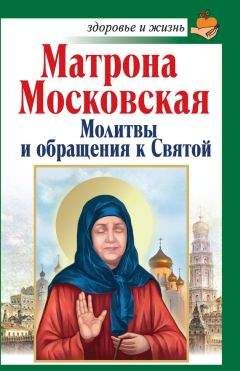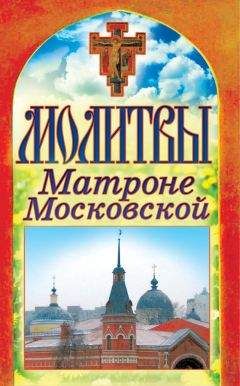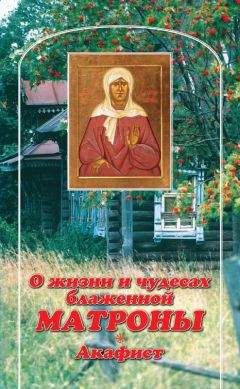С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Среди многочисленных братьев и сестер Клеменсу была особенно близка Беттина — тоже горящая в огне собственной гениальности, тоже неистовая, безудержная, готовая во всем идти до предела и за предел, не мирящаяся с ограниченностью, с филистерством, с принуждением. Их образ мыслей был различен и становился со временем все более различным — там, где Клеменс испытывал ужас перед демонизмом того, что называется поэтической натурой, Беттина упрямо и без всяких оговорок утверждала свое право на мятеж и вызов. И все–таки их соединяло тайное сообщничество, которое было глубже всех различий. Когда Беттина говорила о непрекращающемся танце души под музыку, слышную только самой душе, брат ее понимал.
Бабушка, матриархальная владычица в мире детства и юности Брентано, хранившая память о дружбе с Ви ланд ом; сестра, умница и бунтарка, — с самого начала рядом с поэтом были женщины, в необычной мере самостоятельные, «эмансипированные». В этом же ряду стоит жена Брентано — писательница София Меро. Она была старше его и раньше достигла известности; ей покровительствовал Шиллер. При первом знакомстве двадцатилетний поэт нашел в супруге иенского профессора Меро удивительное сходство со своей умершей матерью. В браке с ней, последовавшем через пять лет, после расторжения ее первого замужества, после ссор и новых сближений, он надеялся испытать «вольный поэтический и фантастический образ жизни»[229]. По–видимому, эта утопия доставила немало страданий обоим; по крайней мере, София призналась в минуту откровенности, что жить с Клеменсом — это попеременно то рай, то ад, однако с сильным преобладанием ада. Мысль о возврате душевного равновесия, о благотворном противовесе перешедшей меру субъективности была связана с надеждой на отцовство; но два ребенка умерли сейчас же после рождения, а третий, которого ожидали с особенной радостью, не только родился мертвым, но и принес смерть своей матери. Совместная жизнь Брентано и Софи Меро продлилась всего три года без малого (1803—1806). Поспешная и абсурдная попытка второго брака окончилась полным крушением; а фон всех этих событий составляли литературные неудачи. Поэту казалось, что жизнь над ним глумится, и у него было сильное искушение ответить на издевку издевкой. Он был надолго выбит из колеи; для него наступила пора внутренней неприкаянности, когда периоды глубокой меланхолии сменялись дикими чувственными взрывами. Стихи, рисующие бесконечное, как в дурном сне, ниспадание в бездны обмана и скверны, — например, «Treulieb» — связаны с этим рядом впечатлений.
Параллельно с эти шли иные впечатления. Еще до брака с Софией Меро поэт подружился с «братом своего сердца» — романтиком Ахимом фон Арнимом (позднее — мужем Беттины); их странствие по Рейну в июне 1802 года, ставшее одной из легенд немецкой культурной традиции и началом так называемой Rheinromantik, отбрасывает светлый отблеск на последующую жизнь Брентано; а изданный совместно с Арнимом сборник обработок народных песен («Волшебный рог мальчика», 1805—1808) принес Брентано чуть ли не единственный прижизненный успех. Внимание к фольклору, к историческому преданию, к сверхличному родовому началу вообще характерно для той линии немецкой романтики, с которой все определеннее связывает себя поэт и которую принято называть «гейдельбергской» в отличие от индивидуализма и космополитического универсализма «иенской» линии. Наряду с Арнимом и Брентано к гейдельбергскому кружку принадлежали Йозеф Гёррес и братья Гримм, Немецкую старину только начали открывать, и Брентано очень много сделал для того, чтобы приблизить этот мир, отступивший в дали времени. Им была собрана великолепная коллекция редких книг и антикварных предметов, от которой он отказался лишь позднее, в пылу аскетического отречения от «похоти очес»; он прилежно вчитывался в диковинные апокрифы, переиздавал забытых поэтов — отголоски всех этих занятий, менее всего «музейных» в обычном смысле слова, мы находим в его стихах. Его душевный контакт со стариной был достаточно непосредственным, чтобы исключить возможность поверхностного любования, и достаточно противоречивым, чтобы осталось место для остроты, напряжения, драматизма.
Примечательно в этой связи его отношение к обрабатываемым фольклорным текстам: он уже не мог попросту «подражать» народным песням, игнорируя дистанцию между литературой и фольклором, как это было принято в эпоху барокко и оставалось возможным еще для Гёте, и еще не мог ограничиться ролью отстраненного, объективного собирателя–фольклориста, взирающего на мир народного творчества с любовью, но извне, как это намечалось уже у братьев Гримм. Арним обмолвился однажды, что «Волшебный рог мальчика» представляет собой «перевод» — перевод с немецкого на немецкий, то есть намеренную транпозицию фольклорного материала, обыгрывающую одновременно взаимоупор «своего» и «чужого» — и их взаимопереход. Тем более относится это к фольклорным мотивам в оригинальном творчестве Брентано. Необузданная и страждущая от своей необузданности субъективность поэта искала для себя узду, предел, данность — и находила их в целомудренно–внеличном духе традиции; но она же похищала у фольклора и традиционной литературы жесты и интонации для собственных нужд, чтобы через контраст со внеличным с особой резкостью выразить личное.
Брентано называл сам себя — «das Kind», и в его устах это не просто дань избитому клише. Конечно, опасной метафорой «детскости», приводящей на грань сентиментального китча, нельзя злоупотреблять; мы знаем, что душевная жизнь Брентано была до чрезмерности сложной — какой, впрочем, бывает и душевная жизнь настоящих, невыдуманных детей. Но как в его строптивости, не лезшей ни в какие социальные и культурные рамки, так и в дополнявшей эту строптивость глубокой жажде послушания впрямь было что–то детское. Потребность в данном и заданном, тяга пересказывать, варьировать чужую тему, плодотворная артистическая пассивность, благодарная оглядка на внешний импульс, на традицию, на «преднаходимое» — оборотная, комплементорная сторона исключительного развития личного начала. Эти контрастом определено отношение Брентано к фольклору — но не оно одно.
В поисках авторитета, которого можно было бы слушаться действительно по–детски, в поисках твердой опоры и защиты против демонических сил, не последней из которых была своя же бездонная и беспочвенная фантазия, Брентано вернулся к католической вере своих начальных лет. Обращение и так называемое религиозное отречение[230] — характерный компонент биографий некоторых немецких романтиков. Каким бы одиноким ни был путь поэта, он пролегал отнюдь не вне связи с историческим временем, и небезынтересно, что его возврат к церкви завершился в том самом кризисном году — 1817–м, когда вартбургский праздник студенческих корпораций и последовавшая волна полицейских мер выявили конец либеральных иллюзий целой эпохи — эпохи Освободительных войн. И все же у Брентано это происходило иначе. Интерес к абстракциям религиозной философии и специально историософии у него почти полностью отсутствовал. Перезревшему и сухо–рациональному просветительству современников у Брентано противопоставлен пафос мистической конкретности. В начале 1816 года поэт, будучи в гостях, услышал рассказ об Анне–Катарине Эммерик, монахине, на теле которой открылись стигматы — раны, соответствующие ранам распятого Христа и появляющиеся у католических мистиков от напряженного размышления о Христовых муках. Собеседник стал иронизировать над волнением Брентано: к чему такие чудеса, если вокруг нас нет ничего, что не было бы чудом? Брентано незамедлительно высмеял этот ответ в эйиграмме как докучное и прозаическое резонерство[231]. Эпизод в Целом характерен. Что для такого поэта, как Брентано, утверждение чудесности «всего»? Все — это слишком широко, отвлеченное понятие без цвета и запаха; но рана, одновременно таинственная и зримая, — это образ, один из тех образов, которыми жива его поэзия. В тот день он еще не знал, что в этот момент судьба его решается на долгие годы. В сентябре 1818 года Брентано оставил все, чтобы вплоть до ее смерти в 1824 году изо дня в день сидеть у постели больной и записывать ее видения. Религиозный порыв — но одновременно порыв поэта: ничего не жаль отдать за право соучаствовать в видении невидимого.
Ибо потом Брентано оставался даже у одра Эммерик. Сам он прилагает к себе обозначение «der Schreiber», как если бы он был лишь «писцом», бесстрастным летописцем чудес; но это было не в его силах. Трудно сомневаться в его доброй воле; но вместо фиксации слов Эммерик под его пальцами рождался овеянный воображением эпос в прозе, неизменно находивший восторженных читателей и почитателей, но так и не авторизованный католической церковью. По правилам аскетики не разрешается предоставлять воображению такие права в области духовного. Это не значит, конечно, что его записи — плод фантазии; они являют собой плод такого же сотрудничества между внешней данностью и поэтическим гением, как и отклики музы Брентано на мотивы фольклорного предания. Надо быть очень самоуверенным, чтобы попытаться отмежевать одно от другого.